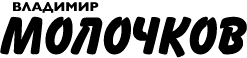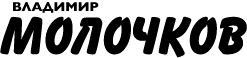КРИТИКА
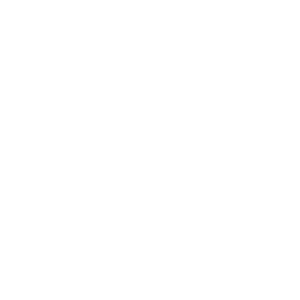
Андрей Ерофеев
Искусствовед, куратор
Особенность сегодняшней художественной ситуации заключена в крайней широте и размытости границ искусства. Если на протяжении прошлого века каждый исторический отрезок имел какое-то ведущее течение в мировом или хотя бы в региональном масштабе и этот «мейнстрим» отражался в названии данного периода (эпоха конструктивизма, арт деко, соц-реализма, поп-арта и т .д.), то сегодня о доминирующем направлении говорить невозможно.
Художественный мир утратил дисциплину стилистического мышления. Общее русло распалось на множество частных ручейков и струек. И если в каком-то месте имеется лидер, то его авторитет ограничен ближайшим окружением, а для всех других он равен нулю. Система иерархий разрушена, свидетельством чему является инфляция хвалебных эпитетов, раздаваемых критиками всем встречным и поперечным. Горизонтальные связи полностью подавили вертикальные и во всех прочих творческих аспектах – в видовых, жанровых, технических.
Если раньше в какой-то момент главенствовала живопись, потом ей на смену пришли объекты и инсталляции, потом видео и фотографии и каждый вновь входящий вид теснил предыдущий, то сейчас на выставках наблюдается и даже приветствуется полнейшая какофония жанров. Собираемые на выставках сообщества носят открытый характер и с маститыми художникам зачастую соседствуют люди начинающие. Право высказывания предоставлено любому. А поскольку высказывание может быть сделано самыми разными средствами, в том числе и мобильным телефоном, то количество художественных сообщений многократно превышает способности и возможности зрителей их воспринять. А их качество не регулируется уже никакими профессиональными нормами и навыками.
Я далек от того, чтобы эту трансформацию осуждать и обличать в качестве кризиса искусства. Этот поворот интересен уже тем, что не является результатом чьего-то умысла, долгосрочного планирования. Скорее, здесь сработал собственный, никем не контролируемый механизм культуры, который время от времени сам по себе включается для ее обновления. После истощения сил предшествующей генерации творцов, после сужения многократно отобранного списка лучших из лучших до нескольких отдельных личностей, культура словно бы все сбрасывает со счетов, перемешивает все карты. И начинает игру с чистого листа. В такой момент ее двери широко распахиваются для всех желающих.
На артистическую площадку вбегает обновленная массовка, состоящая из профессиональных художников, дизайнеров, фотографов разных школ и направлений, а также студентов, дилетантов, любителей. Не редки в ней и представители других профессий, люди известные и преуспевшие в иных сферах деятельности, как, например, писатель Владимир Сорокин или издатель и коллекционер Герман Титов.
Художественный мир утратил дисциплину стилистического мышления. Общее русло распалось на множество частных ручейков и струек. И если в каком-то месте имеется лидер, то его авторитет ограничен ближайшим окружением, а для всех других он равен нулю. Система иерархий разрушена, свидетельством чему является инфляция хвалебных эпитетов, раздаваемых критиками всем встречным и поперечным. Горизонтальные связи полностью подавили вертикальные и во всех прочих творческих аспектах – в видовых, жанровых, технических.
Если раньше в какой-то момент главенствовала живопись, потом ей на смену пришли объекты и инсталляции, потом видео и фотографии и каждый вновь входящий вид теснил предыдущий, то сейчас на выставках наблюдается и даже приветствуется полнейшая какофония жанров. Собираемые на выставках сообщества носят открытый характер и с маститыми художникам зачастую соседствуют люди начинающие. Право высказывания предоставлено любому. А поскольку высказывание может быть сделано самыми разными средствами, в том числе и мобильным телефоном, то количество художественных сообщений многократно превышает способности и возможности зрителей их воспринять. А их качество не регулируется уже никакими профессиональными нормами и навыками.
Я далек от того, чтобы эту трансформацию осуждать и обличать в качестве кризиса искусства. Этот поворот интересен уже тем, что не является результатом чьего-то умысла, долгосрочного планирования. Скорее, здесь сработал собственный, никем не контролируемый механизм культуры, который время от времени сам по себе включается для ее обновления. После истощения сил предшествующей генерации творцов, после сужения многократно отобранного списка лучших из лучших до нескольких отдельных личностей, культура словно бы все сбрасывает со счетов, перемешивает все карты. И начинает игру с чистого листа. В такой момент ее двери широко распахиваются для всех желающих.
На артистическую площадку вбегает обновленная массовка, состоящая из профессиональных художников, дизайнеров, фотографов разных школ и направлений, а также студентов, дилетантов, любителей. Не редки в ней и представители других профессий, люди известные и преуспевшие в иных сферах деятельности, как, например, писатель Владимир Сорокин или издатель и коллекционер Герман Титов.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
“
Профессор, автор десятков научных трудов Владимир Молочков тоже оказался в этой толпе вновь прибывших в искусство людей. Волна обновления, словно цунами, подхватила этого немолодого уже человека, и, быть может, даже против его воли и потащила, поволокла прочь из его профессиональной ниши в новую, незнакомую социальную и личностную ситуацию.
Так в 60 лет Владимир Молочков стал живописцем. Известно, что среди уникальных личностей, кто рождается с даром художника, лишь малая часть претворяет свой талант видения и чувствования мира в какие-либо артефакты. Ибо одно дело видеть, и совсем другое – владеть техникой воплощения своего внутреннего образа в материале. В Челябинске, где Молочков вырос и прожил первые тридцать лет своей жизни, никто не мог объяснить ему, что реализовать свою потребность описывать и комментировать реальность можно совсем не обязательно на картине кистями и красками, владеть которыми у него не было возможности обучаться. Не только в Челябинске, но даже и в Москве несколько десятилетий назад общество еще не понимало, что искусство можно создавать и фотоаппаратом, и подборами утилитарных вещей и вообще чем угодно.
“
Реализация Молочкова-художника долгое время была заблокирована местным советским культурным клише о художнике, как об «ученом живописце», получившем академическое образование. Молочков смотрел на чужие картины в музеях, на выставках, в альбомах и понимал, что выражаться так складно на живописном языке, как это делали «старые мастера» ему не под силу, а по-другому говорить художнику не положено. И вдруг оказалось – можно.
Культура отменила представление о правильной грамотности, о нормированном «литературном», «музыкальном» и «художественном» языке и разрешила косноязычие. Позволила высказываться на любых диалектах. Аналогичное явление случилось, кстати говоря, и в политике, куда на смену бюрократическому языку чиновников и шлифованной риторики дипломатов вторглась речь подворотни, бандитские словечки, военно-тюремный сленг, либеральные диссидентские дискурсы.
Коли актуальность высказывания теперь невозможно мерить стилистической риторикой главенствующего направления, то проблема адекватного современности образа перешла с текста на саму реальность. Именно остротой глаза, открывающего в реальности «красноречивые» мотивы и темы, измеряется сегодня значимость художника. Под красноречивостью мотивов я понимаю такие предметы или виды, которые свидетельствуют не только о себе, но имеет свойство характеризовать всю реальность в целом. Французский критик Пьер Рестани называл бытовые предметы, обладающие такой способность образного обобщения, «предметами плюс». Если с этой позиции посмотреть на работы Молочкова, то становится понятно, что он не просто перерисовывает одну за другой окружающие его бытовые вещи. Его взгляд цепляет совершенно особый класс вещей, а именно тот, что достался нам в наследство от советского времени. Эти предметы, кстати, не слишком часто сегодня нам заметны, ибо, как правило, прикрыты декоративными облицовочными материалами, сайдингом, планкенами, термопанелями, фальшивой плиткой и кирпичной кладкой, фиктивным искусственным камнем и прочими нововведениями евроремонта, которые в своих инсталляциях активно использует Ирина Корина.
Для Кориной именно такие фейковые поверхности, заслонившие неприглядные фасады российской провинции, являются «красноречивыми» феноменами времени. В их нарочитой эффектности, видимой дешевизне, обманчивой сущности выразилась этика сегодняшнего российского общества. А вот Молочков заглядывает за эти аляповатые ширмы в поисках старых отопительных батарей минского сталелитейного завода, вентилей, сливных труб, фибровых чемоданов, оцинкованных ведер, электрощитков с пугающими тумблерами и прочей жестянки и чугунины. Можно по-разному относиться к этим вещам, которые еще наличествуют если не в квартирах, то в подъездах каждого русского дома.
Некоторые художники, среди них первый – Михаил Рогинский, видели в таких предметах проявление платоновой первоидеи вещей. Действительно, какой дизайнер нарисовал табурет, тапки, таз, суповую кастрюлю, примус? Ничто не обнаруживает в них изящного карандаша художника. Они созданы рукой человека, в голове которого существует, подсказанный каким-то всемирным разумом, первообраз вещи. Так говорил мне Рогинский, сидя в типичном французском кафе около своей мастерской на окраине Парижа. «Ну разве же это настоящие вещи?! - обводил он руками интерьер кафе, - здесь сплошной дизайн». Мастерская Рогинского ломилась от картин-портретов советских вещей, отсутствие которых в парижской эмиграции Рогинский оплакивал так же, как Бунин – отсутствие антоновки. Без советских вещей Рогинский не чувствовал себя в жизни комфортно. Поэтому в Париже, где таких вещей не было вовсе, он окружил себя их живописными подобиями. Интересно, что при всей привязанности к советскому быту, который он считал «настоящей жизнью», возвращаться в Россию он не собирался. Скорее всего потому, что вовсе не социальные отношения, а только эстетическое чувство русских людей, которое проявилось в этих вещах, Рогинский полагал безусловным.
Советские вещи писал почти всю жизнь московский художник Андрей Гросицкий. Он трактовал их подчеркнуто монументально в виде гигантских, неуклюжих монстров из доисторического времени. Его мощные швейные машины, мясорубки, навесные замки покрыты пятнами ржавчины, сажей, спекшемся жиром, но все эти наслоения смотрятся не грязью, а патиной времени, фактурой старины, внушающей уважение, а вовсе не отвращение. В поколении художников 2000-х гг. культ советских бытовых предметов подхватила Аня Желудь. В ее живописи и проволочной скульптуре царит протестантская эстетика пуризма и воздержания от всевозможных эффектов, которое на языке современной критики именуется «нон-спектакулярностью». Желудь выбирает самую простую, всем доступную, как правило, бесцветную или белую эмалированную посуду в качестве эстетического и этического идеала символа скромного и достойного существования в эпоху излишеств, демонстративного богатства и вкуса к экстремальному и радикальному поведению, мышлению и чувствованию. Трактовка советских вещей в работах всех троих перечисленных художников ностальгична. Она овеяна ощущением стремительного старения и исчезновения этих предметов, ускоренного лавинообразным вторжением в русскую жизнь интернационального дизайна. Новое общество спектакля и потребления так быстро и тотально все поменяло, что советский быт полностью и без остатка провалился в историю, а с ним в далекое прошлое ушли и те радости, переживания, дорогие люди и вещи, с которыми связаны детство и юность авторов.
Советские вещи писал почти всю жизнь московский художник Андрей Гросицкий. Он трактовал их подчеркнуто монументально в виде гигантских, неуклюжих монстров из доисторического времени. Его мощные швейные машины, мясорубки, навесные замки покрыты пятнами ржавчины, сажей, спекшемся жиром, но все эти наслоения смотрятся не грязью, а патиной времени, фактурой старины, внушающей уважение, а вовсе не отвращение. В поколении художников 2000-х гг. культ советских бытовых предметов подхватила Аня Желудь. В ее живописи и проволочной скульптуре царит протестантская эстетика пуризма и воздержания от всевозможных эффектов, которое на языке современной критики именуется «нон-спектакулярностью». Желудь выбирает самую простую, всем доступную, как правило, бесцветную или белую эмалированную посуду в качестве эстетического и этического идеала символа скромного и достойного существования в эпоху излишеств, демонстративного богатства и вкуса к экстремальному и радикальному поведению, мышлению и чувствованию. Трактовка советских вещей в работах всех троих перечисленных художников ностальгична. Она овеяна ощущением стремительного старения и исчезновения этих предметов, ускоренного лавинообразным вторжением в русскую жизнь интернационального дизайна. Новое общество спектакля и потребления так быстро и тотально все поменяло, что советский быт полностью и без остатка провалился в историю, а с ним в далекое прошлое ушли и те радости, переживания, дорогие люди и вещи, с которыми связаны детство и юность авторов.
“
Совсем не так советские предметы смотрятся в работах Владимира Молочкова. Никакого пуризма и чистоты первоидеи. Молочков изображает их примитивными, грубо изготовленными, кривыми, кособокими, корявыми вещами, покрашенными в знакомые до зубной боли тусклый салатовый, фекально-коричневый или темно-синий цвета, которыми жэковские работники малевали все подряд от фасадов домов до перил лестничных пролетов и почтовых ящиков.
Если у предыдущих авторов речь шла о бытовой архаике, почти переходящий в статус антиквариата, то у Молочкова это набор повсеместно осаждающих нас банальных предметов, которые не вызываю никаких нежных чувств, а, напротив, раздражают и даже унижают нас своим обликом. Они свидетельствуют об упадке человеческого умения и мастерства, об отсутствие понятий изящества и красоты в той цивилизации, которая их изготовила.
“
Вторая особенность подход Молочкова к советским предметам заключается в демонстрации их пластической агрессивности. Художник размещает их в намеренно тесном изобразительном пространстве картины. При этом масштаб вещей, как правило, сильно увеличен по сравнению с натуральными размерами. На зрителя из картины вываливаются гигантские таблетки и пуговицы, грандиозные кастрюли, ведра, батареи. Вещи, которые по идеи призваны скромно служить и нравиться человеку, обретают в интерпретации Молочкова какой-то активный навязчивый характер.
Углами, ручками, вентилями они как бы выпячиваются из картины, нарушая ее композиционный баланс, и бесцеремонно вторгаются в пространство зрительного зала. У посетителя выставки возникает впечатление, будто он оказался в душной и тесной котельной, где со стен и из углов грозит опасность столкновения с режущими, колющими и тупыми объектами. Вспоминается слоган одного из перформансов Вадима Захарова – «Вещи мешают жить».
“
Для Молочкова этот класс советских вещей, тесно связанный со всем миром советских представлений, отношений, поступков, никуда из современности не делся, не отошел в прошлое, как многим хотелось бы думать. Он повсеместно сохранился и так же актуален, так же активно моделирует современность, как и его производители – «сволочи» и «стервы» (по терминологии автора) орущие, галдящие персонажи, которые населяют многие его картины. Укрыться и отвлечься от их атак невозможно, полагает Молочков.
Мир нашего существования на его картинах лишен глубинного пространства, воздуха, света. Он жестко огражден стенами и заборами всевозможных конфигураций. Правда, заборы подгнили, некоторые доски из них выпадают, а те заплатки, которыми кое-как залатаны треснувшие кирпичные стены, не способны прикрыть всех дыр и лазеек. Однако же, и в них тоже автор не видит для нас возможности спасения. Из зияющих отверстий, дыр, железных стоков и труб к зрителям в залы с картин изливаются потоки нечистот, струи мутной воды, волны застойной жижы.
Если в советское время нам казалось, что не у нас, так за «железным занавесом» обретаются свобода и легкость бытия, и это представление значительно облегчало чувство удушья, которое рождала местная жизнь, то в живописи Молочкова никакая радость нас не ждет даже в «закордонном» инобытии. Иными словами, за простыми, кое-как сделанными из примитивных материалов, нищими вещами Молочков различает не особую и оригинальную продукцию общества, балансирующего между восточной и западной эстетической традицией, а ни кому не удобное, ни под кого не приспособленное бездарное творчество «нищих духом» людей.
Если в советское время нам казалось, что не у нас, так за «железным занавесом» обретаются свобода и легкость бытия, и это представление значительно облегчало чувство удушья, которое рождала местная жизнь, то в живописи Молочкова никакая радость нас не ждет даже в «закордонном» инобытии. Иными словами, за простыми, кое-как сделанными из примитивных материалов, нищими вещами Молочков различает не особую и оригинальную продукцию общества, балансирующего между восточной и западной эстетической традицией, а ни кому не удобное, ни под кого не приспособленное бездарное творчество «нищих духом» людей.
“
Мизантропический настрой, которым пропитаны картины Молочкова, не отражается на манере письма художника. В его бодром живописном почерке нет ни капли депрессивной апатии разуверившегося человека. Живопись Молочкова активна и энергична, она увлекает быстротой и точностью исполнения.
Автор не впадает и в иную крайность - в живописное обличение, злобную карикатуризацию мотива. Его живопись не захлебывается в истерике ненависти. Молочков аккуратен и методичен как врач в своем анализе и диагнозе сегодняшней российской действительности. Он последовательно подводит зрителя к такому обобщению, однако избегает дидактических выводов, В конечном счете, он ведь только рисует, то есть внушает нам неудобные вещи не словами, а самой живописью.
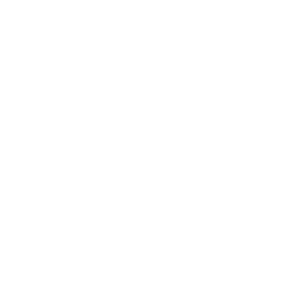
Анна Желудь
Художница
“
Молочков хороший художник, чуткий живописец и не важно, что на его полотнах трэш и панк-рок. Важен и основателен факт абсолютной самоидентификации, чистой как слеза или капля медицинского спирта.
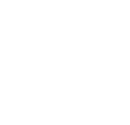
Валерий Кошляков
Художник
Рассматривая впервые работы В. Молочкова, не зная автора, сначала я думал, что это новый мне неизвестный молодой радикал, тщательно маскирующийся под примитивный экспрессионизм, но при близком знакомстве я, и любой другой, впервые знакомившийся с автором, впадает в изумление и даже радостный восторг (как я) и все так же задаются многими вопросами. Как он смог преодолеть в короткий срок совершенно новое ремесло (хотя бы даже фрагментарно и частично, но захватывая его суть (или как страждущий с жадностью, чего-то важно упущенного), но при этом смог перешагнуть через первичное для начинающих художников очарование изображением всего подряд красивого и занимательного, что выходит из под незаученной кисти.
И, конечно, любого зрителя загадочно озадачивают те мотивы и темы, которые выбирает он. И этот выбор к тому же становится его страстью и неким волнующим творческим неврозом его искусства.
И, конечно, любого зрителя загадочно озадачивают те мотивы и темы, которые выбирает он. И этот выбор к тому же становится его страстью и неким волнующим творческим неврозом его искусства.
“
У многих художников это появляется через определенное время, у Молочкова сразу как будто он для этого и взял кисть в руки. Если предположить что загадка кроется в основной его профессии как врача, но как тогда объяснить его форму в живописи. Конечно, мы имеем дело с редким феноменом. Как-то однажды, совместно работая вместе с Владимиром в одной студии, я с любопытством восторженно наблюдал как он быстро работал, сочетая в себе темперамент юного творца с головою зрелого мыслителя, который знает точно, что он хочет изобразить, и эта его внятная изобразительность и простая читаемость - редкая черта у художников.
Также удивляет его профессиональный подход в серийности, где картина перетекает одна в другую, дополняя (раскрывая) тему (кафельные полы, мир плиток и заборов). Тема исследования среды нашего проживания выбрана художником В. Молочковым как уже готовый художественный авангард, изготовленный нашей русской средой и жизнью, поэтому автор подходит к ней как тот жадный этюдист-пейзажист, ценящий малейшее состояние и любое изменение богатой природы (т. к. природа превыше всего) и ему остается только перенести все это живописное золото на холст.